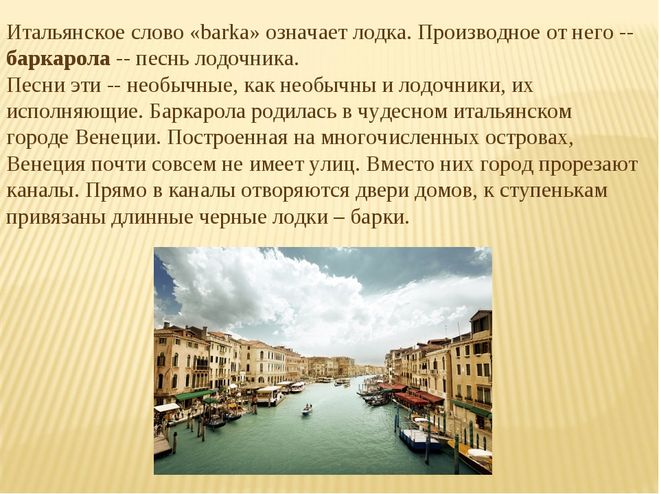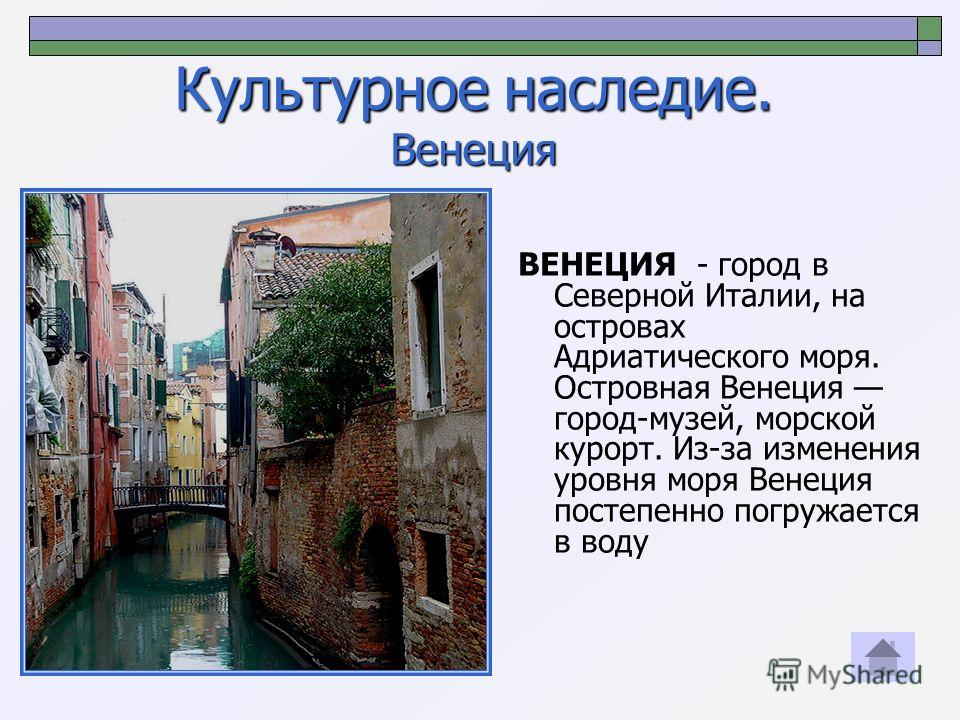Венеция стих: Венеция — Пастернак. Полный текст стихотворения — Венеция
Венеция Бродского | дekoder | DEKODER
24 мая — день рождения Иосифа Бродского. Может возникнуть вопрос: почему мы публикуем о нем текст? Ведь «декодер» — о Германии и Европе, а не о русской поэзии. Это так. Но филолог Захар Ишов рассказывает не просто о стихах Бродского, а о русском восприятии европейской культуры и — шире — о диалоге культур. Который для самого Бродского был необходим, более того, неизбежен. Еще живя в Ленинграде, он как-то указал на открытку с редким видом — Венеции, покрытой снегом, — и уверенно сказал: «Вот это я увижу». Откуда взялась эта уверенность? В те времена Венеция могла быть для советского человека лишь недостижимой мечтой. То, как она сбылась, иллюстрируют фотографии Вероники Шильц.
Вынужденная эмиграция Бродского из СССР имела по крайней мере один плюс. Теперь он мог осуществить свой план — увидеть зимнюю Венецию. Осенью 1972 года Бродский начал преподавать в Мичиганском университете; в первый же свой зимний отпуск он отправился в Италию. С тех пор он ездил в Венецию почти каждую зиму в течение двадцати лет, «с частотой дурного сна», как он позже шутил в книге «Набережная неисцелимых» (на английском она вышла в 1989 году под названием Watermark) — длинном эссе, ставшем гимном Венеции и подробным описанием его романа с этим городом.
С тех пор он ездил в Венецию почти каждую зиму в течение двадцати лет, «с частотой дурного сна», как он позже шутил в книге «Набережная неисцелимых» (на английском она вышла в 1989 году под названием Watermark) — длинном эссе, ставшем гимном Венеции и подробным описанием его романа с этим городом.
«Венеция — это всегда уже написанное, уже увиденное, уже прочитанное», — заметил один крупный литературовед1. Как можно сказать что-то новое о месте, уже описанном Шекспиром, Шиллером, Байроном, Пушкиным, Вяземским, Ренье, Джеймсом, Манном, Прустом, Ахматовой, Пастернаком, Мандельштамом и многими другими? Американская писательница Мэри Маккарти заметила: «“Я завидую вам, пишущему о Венеции”, — говорит новичок. “Мне жаль вас”, — говорит искушенный»2 . Бродский присоединился к хору поклонников Венеции так поздно, что у него было преимущество опоздавшего: его не тяготил «страх влияния»3. Ему не терпелось оставить собственный след в Большой Книге Венеции: «Отметиться желание было», — вспоминал он позже4.
Прочесть позже
Начиная с «Рождественского романса» (1962) Бродский старался «сочинить стихотворение к каждому Рождеству — как своего рода пожелание ко дню рождения». Поскольку он приехал в Венецию в конце декабря 1972 года, вполне естественно, что свое первое и, возможно, самое запоминающееся венецианское стихотворение «Лагуна» он начал именно как рождественский текст, в который вплетаются элементы травелога и лирического стихотворения со следами травмы его недавнего изгнания.
Первое, что поражает новичка в Венеции, — что она не совсем похожа на другие города: отношения между сушей и водой здесь перевернуты. Петрарка называл ее просто mundus alter [иной мир]. В венецианском рождественском стихотворении Бродский прибегает к морским метафорам: пансион, где остановился лирический герой, сравнивается с круизным лайнером, плывущим в рождественский прилив; портье — с капитаном у штурвала; одинокий постоялец, поднимающийся в свой номер, — с пассажиром, садящимся на корабль:
I
Три старухи с вязаньем в глубоких креслах
толкуют в холле о муках крестных;
пансион «Аккадемиа» вместе со
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот
телевизора; сунув гроссбух под локоть,
клерк поворачивает колесо.
II
И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще.
(„Лагуна“, 1973)
Подобным образом и в венецианском рождественском вертепе вместо вола — рыба; вместо вифлеемской звезды — звезда морская, ведущая волхвов к дому младенца Иисуса; вместо Марии, качающей колыбель, — ветер, раскачивающий лодки в лагуне. Наконец, сам лирический герой вместо традиционной рождественской птицы «кромсает» леща:
лодки качает, как люльки; фиш,
а не вол в изголовьи встает ночами,
и звезда морская в окне лучами
штору шевелит, покуда спишь.
V
Так и будем жить, заливая мертвой
водой стеклянной графина мокрый
пламень граппы, кромсая леща, а не
птицу-гуся, чтобы нас насытил
предок хордовый Твой, Спаситель,
зимней ночью в сырой стране.
(„Лагуна“, 1973)
Обыкновение прославлять Спасителя, столь явно противоречившее советской враждебности к религии, было связано не столько с религиозностью Бродского, сколько с его стремлением быть частью «мировой культуры»5. Как объяснял его друг, литовский ученый и поэт Томас Венцлова, Бродский никогда полностью не принимал ни одной из официальных религий6. Поклонение Бродского воде — «ее складкам, морщинам, ряби и … ее серости» — в действительности имеет языческий оттенок:
Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый год, в несколько языческом духе, стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции времени.
(«Набережная неисцелимых», гл. 17, перевод с английского Григория Дашевского)
Второе венецианское стихотворение Бродского, «Сан-Пьетро» (1977), посвящено менее туристической части Венеции. В нем есть узнаваемые детали местности, такие как небо цвета выстиранного белья, неизменно развешенного на веревке между двумя зданиями в узком переулке.
В нем есть узнаваемые детали местности, такие как небо цвета выстиранного белья, неизменно развешенного на веревке между двумя зданиями в узком переулке.
Выстиранная, выглаженная простыня
залива шуршит оборками, и бесцветный
воздух на миг сгущается в голубя или в чайку
(„Сан-Пьетро“, 1977)
Булыжники мостовой цвета жареной рыбы наводят на мысль о популярных в этом районе рыбных ресторанах: «Плитняк мостовой отливает желтой / жареной рыбой». Позже в «Набережной неисцелимых» Бродский опишет завтрак жареной рыбой в другой части Венеции, признаваясь в пристрастии к простым радостям венецианской жизни:
…я должен был уезжать и уже позавтракал в какой-то маленькой траттории в самом дальнем углу Фондамента Нуова жареной рыбой и полбутылкой вина. <…> День был теплый, солнечный, небо голубое, все прекрасно. И <…> я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив.
Я был абсолютно, животно счастлив.
(«Набережная неисцелимых», гл. 37)
Менее известно, что в 1977 году Бродский приехал в Венецию для участия в «Биеннале несогласных» — событии уникальном и историческом для послевоенной Италии. В связи с ним он вступил в полемику с известным итальянским славистом Витторио Страдой, пытавшимся дискредитировать эту выставку, чтобы умиротворить советское правительство7. Однако в стихотворении «Сан-Пьетро» этот политический фон совершенно не ощутим. По меткому замечанию искусствоведа Серебряного века Павла Муратова, чья книга «Образы Италии» стала источником вдохновения для нескольких поколений русских путешественников, воды Венеции, как «воды Леты», приносят покой и забвение8. Бродский вторит этому настроению:
только вода, и она одна,
всегда и везде остается верной
себе — нечувствительной к метаморфозам, плоской,
находящейся там, где сухой земли
больше нет. И патетика жизни с ее началом,
серединой, редеющим календарем, концом
и т. д. стушевывается в виду
д. стушевывается в виду
вечной, мелкой, бесцветной ряби.
(„Сан-Пьетро“)
Сравнивать Санкт-Петербург с Венецией — давняя традиция9. Но для Бродского Венеция не была просто заменой родному городу, куда он не смог вернуться после изгнания в 1972 году. Важнее всего в Венеции была для него невероятная плотность культуры10, которую он исследует в двух следующих венецианских произведениях: «Венецианские строфы I» и «Венецианские строфы II». Здесь он использует метафоры из венецианской живописи и музыки:
IV
За золотой чешуей всплывших в канале окон –
масло в бронзовых рамах, угол рояля, вещь
Вот что прячут внутри, штору задернув, окунь!
жаброй хлопая, лещ!
(„Венецианские строфы I“, 1982)
Как и большинство его русских предшественников11 Бродский считал тишину одной из самых волшебных черт Венеции. Парадоксальным образом ему удается передать ее с помощью музыкальных метафор, попутно отдавая дань уважения своему любимому венецианскому композитору Вивальди:
Cкрипичные грифы гондол покачиваются, издавая
вразнобой тишину.
(„Венецианские строфы I“
В «Венецианских строфах I» Бродский изображает ночную Венецию как огромный оркестр, исполняющий тишину:
VII
Так смолкают оркестры. Город сродни попытке
воздуха удержать ноту от тишины,
и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры,
плохо освещены.
Только фальцет звезды меж телеграфных линий –
там, где глубоким сном спит гражданин Перми.
Но вода аплодирует, и набережная – как иней,
осевший на до-ре-ми.
(„Венецианские строфы I“)
«Гражданин Перми» — это родившийся там Сергей Дягилев. Отец «Ballet Russe» провел свои последние годы в Венеции и был похоронен на острове Сан-Микеле.
В одной из последних глав «Набережной неисцелимых» Бродский описывает поездку на гондоле на этот «остров мертвых». Эта часть читается как прощание с Венецией — и чувствуется, что для Бродского это одновременно и прощание с жизнью. Хотя Бродский скептически относился к Фрейду, его лирическая медитация о смерти в Венеции имеет эротический оттенок и косвенно подтверждает прозрения венского врача о связи между Эросом и Танатосом:
мы выскользнули в Лагуну и взяли курс к Острову мертвых, к Сан-Микеле. Луна, исключительно высокая, <…> почти не освещала водную гладь, и гондола шла абсолютно беззвучно. Было что-то явно эротическое в беззвучном и бесследном ходе ее упругого тела по воде — похожем на скольжение руки по гладкой коже того, кого любишь. Эротическое — из-за отсутствия последствий, из-за бесконечности и почти полной неподвижности кожи, из-за абстрактности ласки.
Луна, исключительно высокая, <…> почти не освещала водную гладь, и гондола шла абсолютно беззвучно. Было что-то явно эротическое в беззвучном и бесследном ходе ее упругого тела по воде — похожем на скольжение руки по гладкой коже того, кого любишь. Эротическое — из-за отсутствия последствий, из-за бесконечности и почти полной неподвижности кожи, из-за абстрактности ласки.
(«Набережная неисцелимых», гл. 46)
Когда Бродский (слишком рано) умер в январе 1996 года, он тоже был похоронен на кладбище Сан-Микеле. Венеция забрала его к себе — в благодарность за его литературное исследование города. Пока он жил, Венеция была его «земным раем». Именно так он назвал этот город в своем последнем венецианском стихотворении («С натуры»), которое написал на русском языке и сам перевел на английский — всего за несколько недель до смерти12.
Текст: Захар Ишов
Перевод: Дарья Дорничева
Фотографии Вероники Шульц († 2019)/Музей Анны Ахматовой, Санкт Петербург
24. 05.2021
05.2021
1.Tanner, Tony (1992): Venice Desired, Oxford, S. 20 ↑
2.McCarthy, Mary (1963): Venice Observed, San Diego/New York/London, S. 12 ↑
3.Bloom H. The Western canon: the books and school of the ages. New York, 1994. P. 7. ↑
4.Бродский И. Пересеченная местность: Путешествия с комментариями. Петр Вайль (под ред.). М.: Независимая газета, 1995. С. 170. ↑
5.Бродский И. “Рождество: Точка отсчета” // Рождественские стихи. М.: Независимая газета, 1996. С. 62. ↑
6. Венцлова Т. Александр Ват и Иосиф Бродский: Замечания к теме // Статьи о Бродском. М.: Новое издательство, 2005. С. 126. ↑
7.Brodskij I. „Necessario per tutti questo dissenso“ // Corriere della sera, 12.12.1977, S. 5 ↑
8. Муратов П. П. Венеция. Летейские воды (1911-1912) // Образы Италии. М., 1999. С. 11. ↑
9. Ср.: Топоров В. Н. Италия в Петербурге // Италия и славянский мир. Советско-итальянский симпозиум in honorem Professore Ettore Lo Gatto. Сборник тезисов.
 М., 1990. С. 49–81. ↑
М., 1990. С. 49–81. ↑
10. См.: Ishov Z. Joseph Brodsky and Italy: A Ph.D. dissertation. Yale: Yale University, 2015 ↑
11.Кара-Мурза А. Знаменитые русские о Венеции. М.: Независимая газета, 2001. ↑
12.Brodsky, Joseph (2000): „In Front of Casa Marcello“, in: Kjellberg, Ann (Hrsg.): Collected Poems in English, New York, S. 435-436. ↑
Алексей Апухтин — Венеция «1…» ~ Стих на Poemata.ru, читать текст полностью
1
В развалинах забытого дворца
Водили нас две нищие старухи,
И речи их лилися без конца.
«Синьоры, словно дождь среди засухи,
Нам дорог ваш визит; мы стары, глухи
И не пленим вас нежностью лица,
Но радуйтесь тому, что нас узнали:
Ведь мы с сестрой последние Микьяли.
2
Вы слышите: Микьяли… Как звучит!
Об нас не раз, конечно, вы читали,
Поэт о наших предках говорит,
Историк их занес в свои скрижали,
И вы по всей Италии едва ли
Найдете род, чтоб был так знаменит.
Так не были богаты и могучи
Ни Пезаро, ни Фоскари, ни Пучи…
3
Ну, а теперь наш древний блеск угас.
И кто же разорил нас в пух?- Ребенок!
Племянник Гаэтано был у нас,
Он поручен нам был почти с пеленок;
И вырос он красавцем: строен, тонок…
Как было не прощать его проказ!
А жить он начал уже слишком рано…
Всему виной племянник Гаэтано.
4
Анконские поместья он спустил,
Палаццо продал с статуями вместе,
Картины пропил, вазы перебил,
Брильянты взял, чтоб подарить невесте,
А проиграл их шулерам в Триесте.
А впрочем, он прекрасный малый был,
Характера в нем только было мало…
Мы плакали, когда его не стало.
5
Смотрите, вот висит его портрет
С задумчивой, кудрявой головою:
А вот над ним — тому уж много лет,-
С букетами в руках и мы с сестрою.
Тогда мы обе славились красою,
Теперь, увы… давно пропал и след
От прошлого… А думается: всё же
На нас теперь хоть несколько похоже.
6
А вот Франческо… С этим не шути,
В его глазах не сыщешь состраданья:
Он заседал в Совете десяти,
Ловил, казнил, вымучивал признанья,
За то и сам под старость, в наказанье,
Он должен был тяжелый крест нести:
Три сына было у него,- все трое
Убиты в роковом Лепантском бое.
7
Вот в мантии старик, с лицом сухим:
Антонио… Мы им гордиться можем:
За доброту он всеми был любим,
Сенатором был долго, после дожем,
Но, ревностью, как демоном, тревожим,
К жене своей он был неумолим!
Вот и она, красавица Тереза:
Портрет ее — работы Веронеза —
8
Так, кажется, и дышит с полотна…
Она была из рода Морозини…
Смотрите, что за плечи, как стройна,
Улыбка ангела, глаза богини,
И хоть молва нещадна,- как святыни,
Терезы не касалася она.
Ей о любви никто б не заикнулся,
Но тут король, к несчастью, подвернулся.
9
Король тот Генрих Третий был. О нем
О нем
В семействе нашем памятно преданье,
Его портрет мы свято бережем.
О Франции храня воспоминанье,
Он в Кракове скучал как бы в изгнаньи
И не хотел быть польским королем.
По смерти брата, чуя трон побольше,
Решился он в Париж бежать из Польши.
10
Дорогой к нам Господь его привел.
Июльской ночью плыл он меж дворцами,
Народ кричал из тысячи гондол,
Сливался пушек гром с колоколами,
Венеция блистала вся огнями.
В палаццо Фоскарини он вошел…
Все плакали: мужчины, дамы, дети…
Великий государь был Генрих Третий!
11
Республика давала бал гостям…
Король с Терезой встретился на бале.
Что было дальше — неизвестно нам,
Но только мужу что-то насказали,
И он, Терезу утопив в канале,
Венчался снова в церкви Фрари, там,
Где памятник великого Кановы…
Но старику был брак несчастлив новый».
12
И длился об Антонио рассказ,
О бедствиях его второго брака…
Но начало тянуть на воздух нас
Из душных стен, из плесени и мрака…
Старухи были нищие,- однако
От денег отказались и не раз
Нам на прощанье гордо повторяли:
«Да, да,- ведь мы последние Микьяли!»
13
Я бросился в гондолу и велел
Куда-нибудь подальше плыть. Смеркалось…
Смеркалось…
Канал в лучах заката чуть блестел,
Дул ветерок, и туча надвигалась.
Навстречу к нам гондола приближалась,
Под звук гитары звучный тенор пел,
И громко раздавались над волнами
Заветные слова: dimmi che m«ami.
*14
Венеция! Кто счастлив и любим,
Чья жизнь лучом сочувствия согрета,
Тот, подойдя к развалинам твоим,
В них не найдет желанного привета.
Ты на призыв не дашь ему ответа,
Ему покой твой слишком недвижим,
Твой долгий сон без жалоб и без шума
Его смутит, как тягостная дума.
15
Но кто устал, кто бурей жизни смят,
Кому стремиться и спешить напрасно,
Кого вопросы дня не шевелят,
Чье сердце спит бессильно и безгласно,
Кто в каждом дне грядущем видит ясно
Один бесцельный повторений ряд,-
Того с тобой обрадует свиданье…
И ты пришла! И ты — воспоминанье!..
16
Когда больная мысль начнет вникать
В твою судьбу былую глубже, шире,
Она не дожа будет представлять,
Плывущего в короне и порфире,
А пытки, казни, мост Dei Sospiri —
Всё, всё, на чем страдания печать…
Какие тайны горя и измены
Хранят безмолвно мраморные стены!. .
.
17
Как был людьми глубоко оскорблен,
Какую должен был понесть потерю,
Кто написал, в темнице заключен
Без окон и дверей, подобно зверю:
»Спаси Господь от тех, кому я верю,-
От тех, кому не верю, я спасен!»
Он, может быть, великим был поэтом,-
История твоя в двустишьи этом!
18
Страданья чашу выпивши до дна,
Ты снова жить, страдать не захотела,
В объятьях заколдованного сна,
В минувшем блеске ты окаменела:
Твой дож пропал, твой Марк давно без дела
Твой лев не страшен, площадь не нужна,
В твоих дворцах пустынных дышит тленье…
Везде покой, могила, разрушенье…
19
Могила!.. да! но отчего ж порой
Ты хороша, пленительна, могила?
Зачем она увядшей красотой
Забытых снов так много воскресила,
Душе напомнив, что в ней прежде жило?
Ужель обманчив так ее покой?
Ужели сердцу суждено стремиться,
Пока оно не перестанет биться?.
20
Мы долго плыли… Вот зажглась звезда,
Луна нас обдала потоком света;
От прежней тучи нет теперь следа,
Как ризой, небо звездами одето.
«Джузеппе! Пеппо!»- прозвучало где-то…
Всё замерло: и воздух и вода.
Гондола наша двигалась без шума,
Налево берег Лидо спал угрюмо.
21
О, никогда на родине моей
В года любви и страстного волненья
Не мучили души моей сильней
Тоска по жизни, жажда увлеченья!
Хотелося забыться на мгновенье,
Стряхнуть былое, высказать скорей
Кому-нибудь, что душу наполняло…
Я был один, и всё кругом молчало…
22
А издали, луной озарена,
Венеция, средь темных вод белея,
Вся в серебро и мрамор убрана,
Являлась мне как сказочная фея.
Спускалась ночь, теплом и счастьем вея;
Едва катилась сонная волна,
Дрожало сердце, тайной грустью сжато,
И тенор пел вдали «О, sol beato»…
1874
10 лучших стихов о Венеции – Интересная литература
Литература
Венеция входит в список самых посещаемых мест, а своеобразная топография и география города сделали его популярной туристической достопримечательностью на протяжении веков.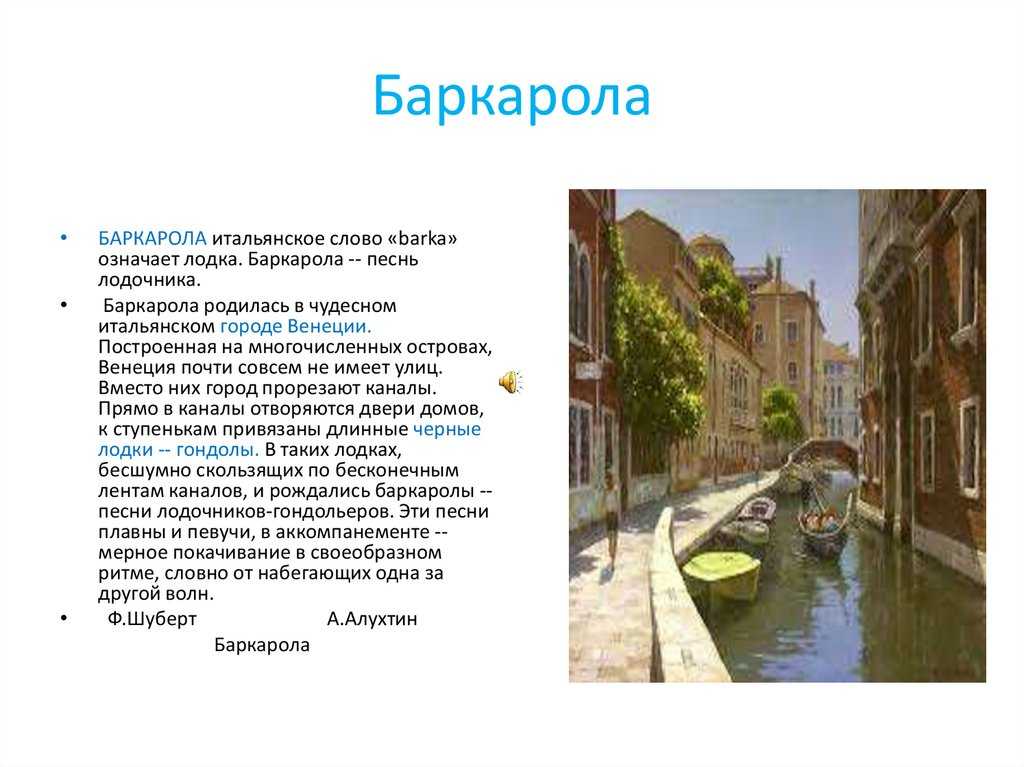 И поэты на протяжении веков использовали Венецию в качестве фона для своих произведений или восхваляли город. Итак, вот десять самых лучших стихотворений о Венеции и литературных изображений этого знаменитого города-республики. Если вы собираетесь посетить эту древнюю республику в ближайшее время, обязательно прочтите эти стихи.
И поэты на протяжении веков использовали Венецию в качестве фона для своих произведений или восхваляли город. Итак, вот десять самых лучших стихотворений о Венеции и литературных изображений этого знаменитого города-республики. Если вы собираетесь посетить эту древнюю республику в ближайшее время, обязательно прочтите эти стихи.
Аноним, «Гернут, еврей из Венеции». Примерно в то же время, когда Уильям Шекспир создал Шейлока, еврейского ростовщика из Венеции, в своей пьесе «Венецианский купец» , анонимный автор баллад дал нам это стихотворение о венецианском еврее по имени Гернут. Действительно, эта баллада могла быть написана даже до пьесы Шекспира и оказала на нее влияние. Конечно, параллели между историей ростовщика Гернута и ростовщика Шейлока выходят за рамки того факта, что они оба венецианцы…
Сэмюэл Роджерс, «Венеция». ‘В море есть славный город. / Море в широких, узких улицах, / Приливы и отливы; и соленые водоросли / Цепляются за мрамор ее дворцов…» Роджерс (1763-1855) сейчас малоизвестен, но он был соратником ряда крупных поэтов-романтиков в начале девятнадцатого века. В серии стихов об Италии Роджерс описал страну в виде своего рода стихотворной версии книги о путешествиях. В его стихотворении о Венеции блестяще передана морская обстановка города.
В серии стихов об Италии Роджерс описал страну в виде своего рода стихотворной версии книги о путешествиях. В его стихотворении о Венеции блестяще передана морская обстановка города.
Лорд Байрон, «Ода Венеции». ‘О, Венеция! Венеция! Когда твои мраморные стены / Будут на уровне воды, / Крик народов над твоими затонувшими чертогами, / Громкий плач по бурлящему морю!» Многие писатели девятнадцатого века опасались, что город Венеция, который просуществовавший более тысячелетия, погрузится под воду и будет потерян навсегда. В своей «Оде Венеции» Байрон оплакивает то, что он считает неминуемой потерей Венеции под водами Адриатики.
Генри Уодсворт Лонгфелло, «Венеция». «Белый лебедь городов, дремлющий в твоем гнезде / Так чудесно построенный среди камыша / Лагуны, которая ограждает тебя и питает, / Как говорит твой старый историк и твой гость!» Венецианские лагуны являются ключевой частью топография города, и американский поэт Лонгфелло вызывает их здесь вместе с «дремлющей» Венецией.
Эмма Лазарус, «Венецианская маска». Наиболее известна своим сонетом, позже написанным на Статуе Свободы, Лазаре (1849 г.-1887) был, как и Лонгфелло, американским поэтом. Это стихотворение с подзаголовком «Сон» определенно отражает потустороннее ощущение Венеции: «Не пятно, / В наполненной солнцем сапфировой чаше, которая есть небо, — / Не рябь на черном полупрозрачном переулке / Обнесенной стенами лагуны. / Не крик / Когда гондольеры с бархатным веслом скользят мимо, / Сквозь золотой полдень…»
А. Э. Хаусман, «Известный морем и берегом». «Кормчий Триеста / Глянул, где должна быть его метка, / Но пуст был запад / И Венеция под водой». Венеция, как и Париж, — самый романтический город. Это стихотворение Хаусмана, вдохновленное романтической связью с венецианским гондольером по имени Андреа, не публиковалось при его жизни, почти наверняка потому, что Хаусман считал его слишком откровенным о своей гомосексуальности.
Артур Саймонс, «Венеция».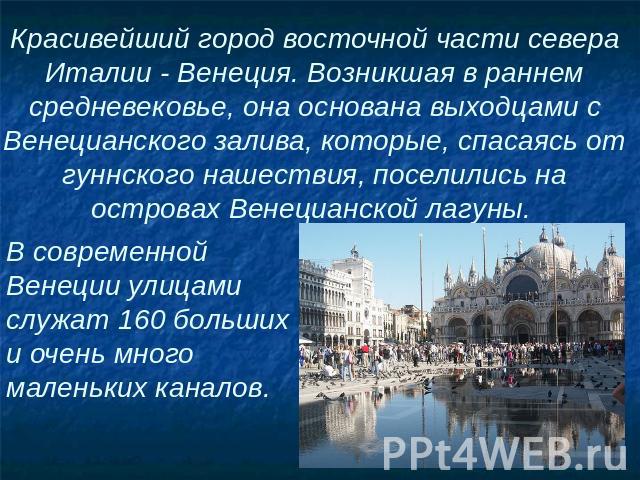 Саймонс (1865-1945) сыграл важную роль в знакомстве многих английских читателей с французским символизмом, и это короткое стихотворение о Венеции передает вид и ощущение города с почти протообразной точностью: «Вода и мрамор и это безмолвие / Которое не сломанный колесом или копытом; / Город, похожий на водяную лилию, меньше / Видимый, чем отраженный, стена дворца и крыша…»
Саймонс (1865-1945) сыграл важную роль в знакомстве многих английских читателей с французским символизмом, и это короткое стихотворение о Венеции передает вид и ощущение города с почти протообразной точностью: «Вода и мрамор и это безмолвие / Которое не сломанный колесом или копытом; / Город, похожий на водяную лилию, меньше / Видимый, чем отраженный, стена дворца и крыша…»
Лоуренс Биньон, «Венеция». Биньона помнят главным образом за то, что он написал стихотворение «Для павших», знакомое каждому, кто смотрел службу в честь Дня памяти в Великобритании каждый ноябрь. Но это стихотворение с его воспоминанием о «волшебном синем» видении Венеции — великолепное описание уникального венецианского пейзажа. Это стихотворение недоступно где-либо еще в Интернете, поэтому мы приводим его полностью здесь:
Белые облака, которые поднялись, преследуют облака
Пока небо не засмеется, голубое и голое;
Солнечные зайчики, трепещущими волнами опережающие
Искрить поцелуи на мраморной лестнице;
Ленивая вода, образы которой
Дворцы с тонкими колоннами,
Или скользит в тени и на солнце, где над
Стенами, что осыпаются красным,
Млечный цвет и свежий лист парят,
Или блестит в бесконечном утреннем просторе,
Далеко и слабо для ослепительных миль
К одиноким башням и кипарисовым островам,
Где призрачные горы висят высоко
Вдоль тумана северного неба:
О Любовь, что за праздные сказки рассказывают
Что это слава прославленная и старая?
Ибо сегодня я знаю, что все это в тебе,
Это видение, купающееся в волшебной синеве,
Мое море, которое окружает меня кругом и кругом
С извилистыми руками в глубоких глубинах,
И несет наши мысли, как золотые паруса
Быть потеряны там, где мерцает и бледнеет дальний край,
Мое небо, что над горами приносит
Звезды и дарит нам дивные крылья,
Моя заря, что пронзает тайную ночь
К центральному сердцу пылающего света
И тысячецветного пламени и цветов
В сияющих дворцах, куполах и башнях!
Чудо, рожденное небом и морем,
«Это все в тебе, что дало это мне.
Борис Пастернак, «Венеция». Хотя Пастернак больше известен как писатель — он написал « Доктор Живаго », — он был также и поэтом, и в этой венецианской поэме он запечатлел музыку, звуки и виды города.
Эрика Йонг, «Венеция, ноябрь 1966 года». Шекспир, Святой Марк, гондольеры, дож и, конечно же, много воды — все это фигурирует в этом раннем стихотворении Эрики Йонг об «самом невероятном из городов».
Нравится:
Нравится Загрузка…
Теги: Лучшие стихи, Книги, Классика, Английская литература, Литература, Поэзия, Рекомендации, Венеция, Венецианские стихи
Паломничество Чайльд-Гарольда [Я стоял в Венеции] Джорджа Гордона Байрона — Стихи
Если из великой природы или нашей собственной бездны
Из мысли мы могли бы только ухватить уверенность,
Возможно, человечество могло бы найти путь, который они упустили...
Но тогда это не испортило бы много хорошей философии.
Одна система пожирает другую, и это
Так же, как старый Сатурн съел свое потомство;
Ибо, когда его благочестивая супруга дала ему камни
Вместо сыновей он не сделал из них костей.
Но Система переворачивает завтрак Титана,
И ест своих родителей, хоть и пищеварение
Трудно. Пожалуйста, скажи мне, можешь ли ты поторопиться,
После должного поиска, ваша вера на любой вопрос?
Оглянитесь назад на века, прежде чем быстро попасть на костер
Вы связываете себя и называете какой-то режим лучшим.
Нет ничего более верного, чем не доверять своим чувствам;
И все же, каковы другие ваши доказательства?
Что касается меня, я ничего не знаю; я ничего не отрицаю,
Признать, отвергнуть, презирать; и что ты знаешь,
За исключением, может быть, того, что ты рожден, чтобы умереть?
И то, и другое может в конце концов оказаться неверным.
Может наступить век, Купель Вечности,
Когда ничто не будет ни старым, ни новым.
Смерть, так называемая, заставляет людей плакать,
И все же треть жизни проходит во сне.
Сон без снов, после тяжелого дня
Больше всего мы жаждем труда; и все еще
Как глина отступает от более спокойной глины!
Тот самый самоубийство, которое платит свой долг
Сразу без рассрочки (старый способ
О выплате долгов, о которых сожалеют кредиторы)
Выпускает нетерпеливо свой стремительный вздох,
Не столько от отвращения к жизни, сколько от страха смерти.
Он вокруг него, рядом с ним, здесь, там, везде;
И есть мужество, которое вырастает из страха,
Может быть, из всех самых отчаянных, которые посмеют
Хуже всего знать это: когда горы поднимаются
Их вершины под твоей человеческой ногой, и там
Вы смотрите вниз на пропасть и тоскуете
Бездна каменная зияет, - ни минуты не взглянешь
Без ужасного желания погрузиться в него.
Правда, нет, но, бледный и охваченный ужасом,
Уходи на пенсию: но загляни в свое прошлое впечатление!
И найдёшь, хоть и содрогаешься у зеркала
Своих собственных мыслей, во всей их самоисповеди,
Скрытая предвзятость, будь то правда или заблуждение,
К неизвестному; тайное предубеждение,
Погрузиться со всеми своими страхами — но куда? Вы не знаете,
И это причина, почему вы делаете — или не делаете.
Но что это за цель? Вы скажете.
Гент. читатель, ничего; просто предположение,
Для чего мое единственное оправдание - это мой путь;
Иногда по случаю, а иногда и без
Я пишу то, что важнее всего, без промедления:
Это повествование не предназначено для повествования,
Но лишь воздушная и фантастическая основа,
Чтобы построить общие вещи с общими местами.
Вы знаете или не знаете, что великий Бэкон сказал:
«Подбросьте соломинку, и она покажет, как дует ветер».
И такая соломинка, носимая человеческим дыханием,
Поэзия, в зависимости от того, как светится ум;
Бумажный змей, который летает между жизнью и смертью,
Тень, которую отбрасывает вперед душа:
А мой пузырь, не для похвалы надутый,
Но только для того, чтобы играть, как играет младенец.
Весь мир передо мной — или позади меня;
Ибо я видел часть того самого,
И достаточно, чтобы я имел в виду;
И в страстях я достаточно виноват,
К великому удовольствию наших друзей, человечества,
Кто любит смешивать легкую смесь со славой;
Ибо я был довольно известен в свое время,
Пока я не запутал его рифмой.
Я принес этот мир в свои уши, и
Другой; то есть духовенство, которое
На мою голову приказали их громы сломаться
В благочестивых наветах отнюдь не мало.
И все же я не могу не строчить раз в неделю,
Утомление старых читателей и открытие новых.
В молодости я писал, потому что мой ум был полон,
И теперь, потому что я чувствую, что он становится скучным.
Но «зачем тогда публиковать?» — наград нет.
О славе или прибыли, когда мир устанет.
Я в свою очередь спрашиваю: — Почему ты играешь в карты?
Зачем пить? Зачем читать? Чтобы на часок не было скучно.
Меня занимает вернуть уважение
О том, что я видел или о чем думал, грустном или радостном;
И то, что я пишу, я бросаю в поток,
Плыть или тонуть — по крайней мере, у меня была мечта.
Я думаю, что если бы я был уверен в успехе,
Я с трудом смог сочинить еще одну строчку:
Так долго я сражался более или менее,
Что никакое поражение не изгонит меня из Девяти.
Это чувство нелегко выразить,
И все же это не влияет, я полагаю.
В игре есть два удовольствия на ваш выбор:
Один выигрывает, а другой проигрывает.
К тому же моя Муза отнюдь не занимается вымыслом:
Она собирает репертуар фактов,
Конечно, с некоторой оговоркой и небольшим ограничением,
Но в основном поёт о человеческих вещах и поступках —
И это одна из причин, по которой она сталкивается с противоречием;
Ибо слишком много правды, на первый взгляд, никогда не привлекает;
И если бы ее целью было только то, что называется славой,
С большей легкостью она бы рассказала и другую историю.
Любовь, война, буря — наверняка есть разнообразие;
Также приправа немного lucubration;
Вид с высоты птичьего полета на это дикое Общество;
Легкий взгляд брошен на мужчин каждой станции.
Если у вас нет ничего другого, вот хотя бы сытость
И в исполнении, и в подготовке;
И хотя эти строки должны быть только линиями чемоданов,
Торговля будет тем лучше для этих Cantos.
Часть этого мира, которую я сейчас
Взялись наполнить следующую проповедь,
Является одним из которых нет описания в последнее время.
Причину легко определить:
Хотя это кажется и заметным, и приятным,
В его самоцветах и горностаях есть сходство,
Скучное и семейное сходство во все времена,
Без больших надежд на поэтические страницы.
Многое волнует, мало что можно возвысить;
Ничего, что говорило бы со всеми людьми и во все времена;
Что-то вроде лака над каждой ошибкой;
Своего рода заурядность даже в их преступлениях;
Наигранные страсти, без лишнего остроумия,
Отсутствие той истинной природы, которая возвышает
То, что он показывает с правдой; гладкая монотонность
Характера, по крайней мере, у тех, у кого он есть.
Иногда, действительно, как солдаты с парада,
Они ломают свои ряды и с радостью покидают муштру;
Но потом перекличка их пугает,
И они должны быть или казаться тем, чем были: все же
Несомненно, это блестящий маскарад;
Но когда ты на первый взгляд насытился,
Надоедает — по крайней мере, мне,
Этот рай удовольствия и скуки.
Когда мы занимались любовью и играли в наши игры,
Одевались, голосовали, блестели, а может быть, и что-то еще;
Со франтами обедали; слышал декламацию сенаторов;
Видел красавиц, представленных на рынке десятками,
Грустные грабли к более печальным мужьям целомудренно укрощают;
Осталось немного, кроме как скучать или скучать.
Посмотрите на тех «ci-devant jeunes hommes», которые
Поток, ни оставить мир, который покидает их.
«Говорят — и это общая жалоба —
Что никому не удалось описать
Свет, именно так, как они должны рисовать:
Некоторые говорят, что авторы только воруют, подкупая
Швейцар, какие-то мелкие скандалы странные и причудливые,
Чтобы дать материал для их моральных насмешек;
И что их книги имеют только один общий стиль —
Болтовня миледи, просачивающаяся сквозь ее женщину.
Но это не может быть правдой прямо сейчас; для писателей
Из бомонда выращены часть потенциала:
Я видел, как они уравновешивают даже весы бойцами,
Особенно в молодости, потому что это необходимо.
Почему их наброски подводят их как индейцев?
Из того, что они считают наиболее важным,
Настоящий портрет высшего племени?
В том-то и дело, что описывать особо нечего.
«Haud ignara loquor»; это Nugae, 'quarum
Pars parva fui», но все же искусство и часть.
Теперь мне было гораздо легче рисовать гарем,
Битва, крушение или история сердца,
Чем эти вещи; кроме того, я хочу пощадить их,
По причинам, которые я предпочитаю держать в стороне.
«Vetabo Cereris sacrum qui vulgarit…»
А это значит, что вульгарные люди не должны его разделять.
И поэтому то, что я сбрасываю, идеально —
Низкий, заквашенный, как история масонов;
Который имеет такое же отношение к реальному,
Как путешествие капитана Пэрри может сделать с путешествием Джейсона.
Великий аркан не для мужчин, чтобы видеть все;
В моей музыке есть мистические оттенки;
И есть многое, что нельзя было оценить
В любом случае непосвященным.
Увы! миры рушатся, и женщина, с тех пор как она пала,
Мир (как, начиная с той истории, менее вежливой
Чем правда, так строго придерживались веры)
Еще не отказался от практики совсем.
Бедняжка обычаев! вынужденный, вынужденный,
Жертва, когда ошибается, и мученик, когда прав,
Осуждены на детскую постель, как мужчины за свои грехи
Их подбородки слишком сильно выбриты, --
Ежедневная чума, которая в совокупности
Может быть средним в целом с родами.
Но что касается женщин, которые могут проникнуть
Реальные страдания их она состояние?
Очень симпатия человека к их имуществу
Много эгоизма и больше подозрительности.
Их любовь, их добродетель, красота, образование,
Но воспитать хороших домохозяек, воспитать нацию.
Все это было очень хорошо и не может быть лучше;
Но и это трудно, знает небо,
Столько бед с рождения ее обступило,
Такая маленькая разница между друзьями и врагами,
Позолота так быстро стирается с ее оков,
Это — но спросите любую женщину, выберет ли она
(Возьмите ее в тридцать лет, то есть), чтобы быть
Женский или мужской? школьник или королева?
«Влияние юбки» — большой упрек,
Что даже те, кто повинуются, хотели бы думать
Лететь от, как от голодной щуки плотвы;
Но так как под ним на землю мы принесены,
Разными трясками наемной кареты жизни,
Я, например, преклоняюсь перед юбкой —
Одеяние мистической возвышенности,
Неважно, красновато-коричневый, шелковый или димити.
Многое уважаю и многим обожаю,
В дни моей юности эта целомудренная и прекрасная вуаль,
Который хранит сокровище, как клад скряги,
И больше влечет всем, что скрывает —
Золотые ножны на дамасском мече,
Любовное письмо с мистической печатью,
Лекарство от горя — от всего, что может когда-либо ранить
До юбки и выглядывающей щиколотки?
И когда в безмолвный, угрюмый день,
С сирокко, например, дуя,
Когда даже море кажется тусклым со всеми своими брызгами,
И угрюмо журчит речная рябь,
А небо показывает ту самую древнюю седину,
Трезвый, печальный антитезис сиянию,—
«Приятно, если что-нибудь приятно,
Увидеть хотя бы симпатичную крестьянку.
Мы оставили наших героев и наших героинь
В этом прекрасном климате, который не зависит от климата,
Совершенно независимо от знаков Зодиака,
Хотя, конечно, сложнее рифмовать,
Потому что солнце, и звезды, и все, что сияет,
Горы и все, в чем мы можем быть самыми возвышенными,
Часто бывают унылы и тоскливы, как серая пыль —
Будь то небо или торговец, это все одно.